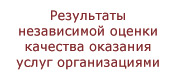|
Правила жизни Виктор Мамонов
“ Я изобрел Бога театра. Перед ним я чист, открыт и не виноват. Если и грешу, то это те грехи, в которых можно покаяться. Потому что знаю, что не изменяю ему в главном – в отношении к сцене, в том, как я существую здесь – с той отдачей, на которую способен. ” |
Я студентам своим пытаюсь внушить: если ты на лицо одел какую-то маску, то она мешает думать, мешает мыслям прорываться сквозь тебя. Не нужно ничего изображать на лице – правильная мысль, если она тебя посетила, то сама собою нарисуется.
Мне стало легко играть после «Дяди Вани». Режиссер Елена Черная просто научила меня правильно открывать на сцене рот. Я слышал об этом еще у Ираклия Андронникова, который что-то подобное рассказывал о Шаляпине. А у Константина Райкина в «Ричарде III» я это видел собственными глазами – он проделывал эти «упражнения» прямо во время монолога. Так физика помогает природе.
Артист свободен на сцене тогда, когда занят делом. Режиссер предлагает определенные мысли, идеи, решения, и когда они тебе интересны и ты занимаешься их воплощением, то возникает необходимая свобода.
Если не знаешь, что играть, играй загадочно. Этим общеизвестным актерским приемом приходится иногда пользоваться.
У людей, имеющих большие деньги, есть некая холодность в глазах. Я могу сыграть все, что угодно – смерть, самоубийство, страсть. А вот сыграть человека, у которого есть деньги, не смогу, наверное. Самое сложное для меня – сыграть человека, у которого есть деньги. Не могу себе этого представить. Денег никогда не было ни у меня, ни у тех, с кем я общаюсь. Я этого не наблюдал. Не понимаю до конца, что именно отличает этих людей от других. Может, то, что они готовы, как говорится, отчитаться за каждый свой миллион, кроме первого?
Роль начинает получаться с того момента, когда тебе становится интересно. Ты можешь даже ошибаться – неважно. Главное – чтобы возник интерес к персонажу. В «Ромео и Джульетте» – это момент, когда Отец Лоренцо возомнил себя равным Богу, решился на «воскрешение» Джульетты. Мне нравятся контрапунктные вещи. Мой герой – не святой, у него есть желание, не меньшие, чем у Ромео и Джульетты, но он пытается с ними бороться. То есть в роли ищешь мысли, которые тебя «заражают».
Момент творчества может настигнуть тебя в ванной или в маршрутке – внезапно, вдруг. В «Антигоне» меня волновал и волнует вызов богам, который совершает Креон. Он словно закрыл ход прежним богам и находится в ожидании других, новых. Это может быть даже не понятно зрителю, но это занимает тебя.
Вроде бы Свидригайлова в «Преступлении и наказании» никак не касается то обстоятельство, что Раскольников убил старушку. Но в какой-то момент я понял, что касается, и еще как. Что из-за этого во многом Свидригайлову не удастся добиться Авдотьи Романовны. Если ты любишь человека, то тебе дорого все, что его окружает, те люди, которые ему близки. Свидригайлов понял, что если застрелится сам, то воспрепятствует таким образом самоубийству Раскольникова. Он обрезает ему этот путь, забирает у брата любимой женщины такой выход, спасая его от физической гибели.
Свидригайлов не из тех людей, которые нагрешили, покаялись и шуруют дальше. Он из тех, кто за собственные преступления наказывают себя сами.
Я радуюсь, когда открываю для себя какие-то механизмы устройства этого мира. Пусть это сделали даже другие люди, до тебя. Ребенок бросает игрушку, взрослый поднимает и возвращает ему обратно, ребенок радуется и снова бросает, взрослый возвращает игрушку снова, ребенок радуется. Таким образом к нему приходит понимание того, что мама уходит не навсегда – она обязательно вернется. Он радуется этому знанию, этой уверенности. Очень маленькие открытия бывают очень важными.
Играю «Город ангелов» и каждый раз вспоминаю, что уже два года не был дома, не видел маму. Тут 200 километров всего до Ершова, а у меня никак не получается туда приехать.
Я часто ездил домой, когда учился на театральном, и никогда не просыпал свою станцию. Поезд отходил часов в 11 вечера, я засыпал, Ершов был часа в 3 ночи, и в этот момент меня кто-то будто толкал, я просыпался и выходил. Так бывает, когда вспоминаешь о человеке тогда, когда и он о тебе подумал. Мама звонит именно в тот момент, когда я сам хочу ей позвонить.
Ты стараешься уйти от чувства вины, от мыслей, которые тебя мучают. Но ты же не можешь их искусственно изолировать. Получается, что избегая чувства вины, ты лишаешь работы значительную часть своего мозга, то есть оглупляешь себя. Виной пронизано все вокруг. Единственное место, где ты чувствуешь себя нормально – это в работе, в театре. Все остальное – отношения с детьми, родителями, родственниками, женщинами – территория вины.
Я такой человек, что всё держу внутри. Актерская работа хороша тем, что спасает тебя в буквальном смысле слова – помогает выплескиваться. Она лечебная, как сеанс психоанализа. Да и само по себе общение с коллективом помогает уравновешиваться. Ты не один. И счастлив тем, что занимаешься своим делом по любви.
У меня есть одно правило – следовать чувству меры. Я избегаю резких решений. Стараюсь не впадать в крайности.
Я изобрел Бога театра. Перед ним я чист, открыт и не виноват. Если и грешу, то это те грехи, в которых можно покаяться. Потому что знаю, что не изменяю ему в главном – в отношении к сцене, в том, как я существую здесь – с той отдачей, на которую способен.
С Женей Марчелли так бывало на репетициях «Жестоких игр»: собираемся в 11 часов в утра, начинаем работать и что-то не идет. Он в такие моменты говорил: «Ребята, давайте разойдемся на сегодня. Не получается. Если в нашей работе ты не получаешь удовольствия, то зачем она нужна?» Я с ним полностью согласен. Получать удовольствие от того что ты делаешь на сцене – еще одно очень важное правило моей жизни.
Выход на сцену похож на попадание в другой город. Твой глаз отдыхает и открыт новым впечатлениям: ты не видел этих улочек, этих домов, любой поворот дарит что-то новое. Каждый спектакль похож на такое путешествие. Всякий раз ты идешь по новому маршруту. Вроде бы основные вещи определены. Но все равно ты проходишь знакомый маршрут по-другому.
В актерской профессии заложена своего рода вечная жизнь. Иногда бывает так радостно: вчера убили тебя в «Кабале святош», ты умер, а наутро просыпаешься... Привезли его домой – оказался он живой. Так классно. Ты успеваешь многое прожить за свою единственную жизнь. Это ведь точно у Сомерсета Моэма в «Театре» подмечено, когда героиня-актриса говорит, глядя на людей: это вы играете – а я живу. Это странная жизнь. Но это – жизнь!
В детстве я рисовал, бесконечно рисовал. И замечал, что когда бьешься над каким-то бликом, глазом, волной, пока увлечен этим, ты внутренне совершенно спокоен. И в этот момент ты свят. Потому что в эту секунду чист и верен всем десяти заповедям.
Театр – Дом. Идешь по балкону и видишь, какое фойе огромное. А это как будто твой дом. У какого еще современного помещика есть такой дом?! Ни у кого такого нет. Все же в квартирках живут. Думаешь: «О, какая у меня сцена большая! Сколько кресел в зале!» Невероятное ощущение.
К людям, с которыми работаешь вместе, так привыкаешь... Со всеми их особенностями, недостатками и тараканами. Они становятся так дороги. Это мои люди! Если кто-то посторонний вдруг начинает на кого-то из них наезжать, реагируешь сразу. Это я могу с ними спорить или ругаться. А вы на моего человека не имеете никакого права! В такие моменты проявляется твое истинное отношение к театру и тем людям, с которыми ты вместе проживаешь жизнь.
Записала Ольга Харитонова
Фото Алексея Гуськова