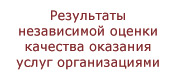В театре Снимается кино
 14 и 15 мая на Большой сцене состоится премьера спектакля «Снимается кино» по пьесе Эдварда Радзинского. Постановку осуществляет режиссер Никита Рак в сценографии Юрия Наместникова.
14 и 15 мая на Большой сцене состоится премьера спектакля «Снимается кино» по пьесе Эдварда Радзинского. Постановку осуществляет режиссер Никита Рак в сценографии Юрия Наместникова.
Никита Рак родился в Красноярске. В 2004-м закончил Красноярскую академию музыки и театра (курс народного артиста РФ, профессора В.А. Дьяконова). Работал актёром и режиссёром в Пермском театре «У моста». Здесь же поставил свои первые спектакли – «Кислород» И. Вырыпаева и «Парикмахерша» С. Медведева.
В 2008-м стал художественным руководителем Красноярского театра драмы «Наводнение», где поставил спектакли: «Бытие №2» И. Вырыпаева, «Голубой вагон» В. Дурненкова, «Хочу любить» С. Адлер, «Онегин. Этюды» по роману в стихах А.С. Пушкина.
В 2009-м приглашён на работу в Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. На проводимом театром совместно с Фондом Михаила Прохорова фестивале современной драматургии «Драма. Новый код» (ДНК) выступил в качестве постановщика эскизных спектаклей современных российских пьес «Одноклассники» С. Матвеева и «Искусство вечно» М. Дурненкова.
С 2013 года являлся художественным руководителем Театра имени Ленинского комсомола в г. Прокопьевске, ставил спектакли в театрах Магнитогорска, Петропавловска-Камчатского, Новокузнецка, Улан-Удэ, Мадрида.
Работает в Воронежском академическом театре драмы имени А. Кольцова, где поставил спектакли «Танец Дели» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Как я стал…» Ярославы Пулинович, «Метель» по Александру Пушкину, «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина.
Мы поговорили с режиссером накануне премьеры:
– Мне кажется, что театр – единственное искусство, которое обращается к вечным темам, имея при этом возможность говорить о сиюминутном, о том, что происходит именно сейчас. Театр – это попытка разобраться в сегодняшнем дне и сегодняшнем человеке. Я интересуюсь историей и знаю, что историкам часто задают вопрос о том, как бы они охарактеризовали происходящее сегодня? Они обычно отвечают про необходимость временной дистанции, позволяющей оценивать события. А театр не ждет, имеет дело с сегодняшним днем непосредственно, предполагает прямой диалог со зрителями. Поэтому свои первые спектакли я ставил исключительно на современном материале. Это не было принципиальной позицией, но я считал, что современную драматургию, пусть не всегда великую и прекрасную, но написанную сегодня, нужно сразу делать достоянием публики. Это, впрочем, касается любого, даже классического, текста: он берется и помещается в «сегодня», и мы тут же понимаем, как на него реагирует наша нынешняя жизнь.
– Я все время пытаюсь услышать сегодняшний день, очень много этому уделяю внимания. Когда театр отгораживается от жизни, концентрируется на себе самом, становится «театром для театра», – возникает проблема: такой театр может быть даже очень любопытным, но зритель сразу чувствует, что происходящее на сцене интересно, но не имеет к нему никакого отношения. Я всегда стараюсь спустится с тех гор, где обитают небожители, и вывести людей на непосредственный диалог с пьесой, ее героями, с театром. Зрителю нужно дать почувствовать, что он может разобраться в тех проблемах, о которых говорит театр, что он может быть счастливым, как бы это пафосно не прозвучало. Я опасаюсь театра, который не дает зрителю надежды. Я ищу путь, направление выхода из любой ситуации. Настоящее искусство непременно говорит о сложности и неоднозначности этого мира. Но оно говорит о том, что есть что-то еще... Я, может быть, и не могу это «еще» определенно назвать или четко сформулировать. Но могу дать почувствовать, что оно есть, и обнаружить это «еще» я могу только в процессе диалога.
– Сильный советский период авторитарной режиссерской власти, который дал театральной истории выдающиеся имена, закончился. Изменились средства коммуникации. Сегодня режиссер не должен просто сказать артисту: делай так. Он должен вместе с артистом понять, почему нужно делать так, а не иначе. Нужно разговаривать и договариваться до последнего. Мнение не навязывается, а доносится. Это значительно сложнее, на мой взгляд. Как мы можем призывать зрителя не закрываться, а вступать в диалог с театром, если наш процесс работы над спектаклем тоже не является диалогом? В этом есть неискренность. Поиск новой искренности невозможен, если ты авторитарен, если не способен признать, что ты тоже человек и можешь ошибаться.
– Вместе с моей женой Полиной, театральным художником, мы много думаем о том, как сегодня коммуницируют зал и сцена. Когда человек приходит в зрительный зал и видит «итальянскую коробку», у него срабатывает код «театр». Ты хоть жги огонь, хоть курицу жарь, хоть грязью артистов намажь, мощный код привычной коробки из всего сделает театр. В этих условиях всегда будет получаться нечто более условное и привычно театральное, игровое. Иное пространство не то чтобы предопределяет адскую новацию, но все-таки меняет восприятие. Невозможно прийти на репетицию и сказать: мы будем играть, как в театре Антонена Арто. Театр Арто тоже придется изобретать заново. В театре ты всегда и всякий раз заново изобретаешь колесо. И в изобретении этого колеса мы способный каждый раз не стоять на месте, но двигаться. Невозможно прийти и сказать: бахнем эксперимент, сделаем, как никто! Мы уже делаем, как никто. Мы же другие люди по определению. Мы каждый раз начинаем с нуля. Изобретаем новый театральный инструментарий.
– Для меня в пьесе «Снимается кино» личная история режиссера Нечаева важнее социальной. Я его очень понимаю. Режиссер ставит про режиссера – прямая аналогия – жутко. Я хорошо знаю и чувствую, что это такое, когда в твоей голове одновременно сосуществуют миллион разных мыслей. А ты должен выловить ту одну, единственную, которая даст тебе ответ на сложный вопрос. Мне кажется: вот я иду на репетицию, вот она – спасительная мысль, выловил ее, кидаю в сцену и понимаю: неправильно! Не работает! Но ты уже пришел к людям. Снимается кино. Тебе надо репетировать. Начинается брожение, хаос, из которого ты тогда должен выловить нечто иное. И этот процесс никогда не кончается. И в истории с женщинами у Нечаева – то же самое. Он не может понять, что правильно. Как правильно поступить? Это очень точно уловлено Радзинским. Жена героя спрашивает: почему ты молчишь? Он отвечает: думаю. И он же реально думает! Он не знает, как однозначно ответить на простой вопрос: ты меня любишь или нет? Я знаю советских и не только советских режиссеров, которые вели себя по-скотски, а делали спектакли о прекрасном.
– Художника, если он настоящий, и уверен в чем-то своем, ничто не остановит: ни страх смерти, ни страх потерять профессию. Это так сложно обрести, что обретенное однажды победит любой страх. Зачем раньше литераторы писали в стол? Потому что не могли этого не написать. Ничто не способно было их остановить. Сегодня, когда вся информация лежит в открытом доступе, нам сразу хочется узнать про художника – что это за человек? Нам это важно. Мы скорее от человека идем к его текстам, чем наоборот. Почему в 60-е поэзия собирала стадионы? Люди приходили посмотреть на поэтов, на тех, кто что-то понимает про эту жизнь. Чем дальше я ставлю пьесу «Снимается кино», тем яснее понимаю, что мы опять, как это не парадоксально, переживаем конец оттепели. И опять становятся важны люди, которые способны что-то объяснить. Почему Дмитрий Быков собирает огромные аудитории? Про Цветаеву разве приходят послушать? Приходят, потому что, говоря о Цветаевой, он говорит о сегодняшнем дне. К нему прежде всего приходят как к человеку, а потом уже, как к литературоведу или поэту. Мы можем совершенно не соглашаться с Захаром Прилепиным, не понимать, как ему удается быть одним в книжках и совершенно другим в блогах, но мы слушаем его как человека, который что-то про эту жизнь понимает. Очень важно то, что все эти люди не разрушители, но создатели. Не знаю, способен ли министр обороны, скажем, собрать такую аудиторию слушателей?
– Пьеса Радзинского не предполагает прямого переноса в сегодняшний день. Вот герои ищут девушку Аню, ищут, где Аня? Позвони по мобильному да узнай. Нельзя. Время другое. Но по большому счету все, что происходит с людьми в этой пьесе, крайне, пугающе современно. Очень остро сейчас стоит вопрос, с кем ты? Вопрос выбора очень важен. Аналогии прямые. Выдающегося писателя Людмилу Улицкую, которая еще недавно была флагманом передовой мысли, сегодня задвигают и поливают зеленкой. Логики не существует, просто меняется вектор. На передний план выходят вчерашние приспособленцы. Невозможно даже представить, чтобы про человека, получающего Нобелевскую премию, говорили: да кто это, о чем вы говорите, Алексиевич просто не писатель. В секунду этот перевертыш происходит. Так и в «Снимается кино». А Аня из пьесы? Очень сегодняшняя девочка, с амплитудой в 180 градусов. Она как образ поколения, которое не знает, что ему делать? Молодые сейчас чувствуют, что надо что-то делать, куда-то двигаться, у них есть молодость, талант, силы, но никому это не надо! Мечутся по земному шару под аккомпанемент разговоров о том, как они нужны. Но что с жизнью-то делать? Неизвестно.
– К кино я отношусь спокойно. Я люблю книжки читать. Я меломан, это часть моей жизни. А в кино я профан. Я как посмотрел когда-то «Рассекая волны», так и смотрю каждого Триера. Как люблю драматурга Вырыпаева, так и смотрю фильмы, которые он снимает. Когда посмотрел «Спасение», понял, зачем ему нужно кино. Эту историю без средств кино не расскажешь. Но сам предпочитаю театр, который может и должен множить количество любви. Только когда мы сами худо-бедно полюбили друг друга, мы можем сказать: смотрите, люди, у нас получилось – и у вас получится!
Записала Ольга Харитонова