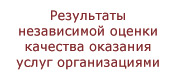Пресса
Марина Глуховская: Зачем пугаться раньше времени?
Новый театральный сезон в академдраме откроется 1 октября премьерой спектакля по повести Лидии Чуковской «Софья Петровна», который сейчас репетирует московский режиссёр Марина Глуховская, поставившая на саратовской сцене уже несколько спектаклей.
Говоря о поставленных Мариной спектаклях, мы попытались понять природу диктатуры и террора, а также то, что происходит с человеком в этих условиях. Не обошли стороной и современную Россию.
— Марина, я понимаю, что вам этот вопрос задавали миллионы раз, но всё-таки спрошу. Вы окончили филфак МГУ, а затем мастерскую Петра Фоменко. В какой момент пришло понимание, что ваше место — театр, а в театре — за режиссёрским пультом?
— Достаточно давно. Хотела учиться на режиссёра сразу после школы, но слишком маленьких по возрасту на режиссёрскую специальность не брали. Предложили актёрский факультет, но актрисой я себя не видела. Послушала отца, который сказал: «Будешь заниматься тем, чем хочешь, но сначала получи какое-нибудь нормальное образование».
— В одном из интервью вы сказали, что театр — территория тотального общения, что спектакли рождаются только в контакте со зрителями. В саратовской драме вы поставили несколько спектаклей. В каких из них это общение было наиболее ярким? И чего вы ждёте от зрителя?
— Внимания, понимания. Никогда не жду каких-то особенных реакций. Потому что нам всем смешны и интересны разные вещи. Зритель должен чувствовать себя свободно. Многое в нашем общении зависит от степени ненасилия. Меня никогда не задевает, если человек встаёт и уходит. Ему может не нравиться спектакль, он может не хотеть реагировать, чувствовать. Это его право. Именно для этого мы и ходим в театр, чтобы определить, о чём мы хотим слушать, что хотим понять.
У нас были очень трогательные моменты на спектакле «Немного о лете», когда зрители несколько раз посмотрели спектакль, пригласили своих друзей и специально испекли для нас торт в виде книги с названием спектакля. Такой элегантный и совершенно неожиданный подарок.
У спектакля «Гамлет», например, есть свой сайт. И его не мы придумали, а обычный человек, который посчитал, что хорошо бы организовать клуб любителей «Гамлета», где люди обмениваются мнениями. Конечно, это очень удачное общение. Я была потрясена, когда узнала.
— Ваши спектакли достаточно сложны, манера прочтения произведений неординарна. Между тем, вы ждёте от зрителя понимания…
— Видите ли, я вообще не считаю, что люди идиоты, тем более театральная публика. Если у человека есть привычка ходить в театр, значит, этот человек вовсе не хочет, чтобы ему ежедневно показывали какие-то глупые комедии. Скорее всего, он хочет увидеть на сцене что-то другое.
— В «Гамлете» вы намеренно подчёркиваете, что это, в общем-то, современная история. Сейчас репетируете спектакль по повести Лидии Чуковской «Софья Петровна», посвящённой событиям 37-38 годов. Вы вновь будете сближать эпохи?
— Здесь дело не в сближении эпох. Это очень конкретная вещь. Я хочу поговорить о том, что такое сталинизм. До сих пор находятся люди, выступающие в защиту сталинского режима. Моральный долг порядочного человека — препятствовать его оправданию. Нация, которая не осуждает преступление против человечества и против собственного народа, дальше двигаться и развиваться не будет. И мне лично как человеку, как режиссёру, как дочери своих родителей не просто неприятно, а отвратительно слышать похвалы «великому кормчему» и оправдания массовых преступлений… Я, например, считаю, что войну выиграл не Сталин, а моя бабушка, которая прошла с лётной частью до Польши, и другие бабушки и дедушки. И вообще грех гордиться стройками первых пятилеток, потому что невозможно гордиться рабским трудом. В Германии был Нюрнбергский процесс, и у любого немца при всех болях, которые пережила Германия, выработано отношение к нацизму.
— И они до сих пор испытывают чувство вины.
— Да. И мне кажется, что большевизм и сталинизм не предмет для гордости. Мне безумно и безмерно жаль людей. Я категорический противник идеи коллективной ответственности. Потому что точно знаю, что тётушка, работавшая на шарикоподшипниковом заводе, ни в чём не виновата. Она работала в нечеловеческих условиях, её штрафовали за опоздания, со всех сторон несли в уши весь этот партийный бред о врагах народа, и она, усталая, поднимала руку, голосуя за смертную казнь. Но она ничего не понимала. Отвечать за преступления должны политики, те люди, которые уродовали мозги, которые издевались над собственным народом, калечили души, извратили представления человека о том, что естественно, что противоестественно. Разбираться со временем и собой нельзя, уравняв штрафбат и заградотряд. Мол, они все ветераны войны. В каком-то смысле да, но одни стреляли во врага, а другие стреляли в спину первым.
— Те, кто стрелял, — они ответственны? Они же тоже маленькие люди, как уставшая женщина с завода…
— Это очень сложно. Если солдат нарушал приказ, за это тоже расстреливали. Мы, потомки и тех, и других, должны сейчас в этом разбираться. Они не могли. Что может осознавать человек под дулом пулёмета?
— А как бы вы охарактеризовали современную Россию?
— В 90-е годы, когда я стояла среди своих ровесников на той самой площади, где сносили памятник Дзержинскому, я абсолютно точно знала, за что я там стою. И очень чётко понимала, что будет другая Россия, в которой я буду жить. В которой у меня будут те права, которых не было. Например, моё право избирать и быть избранным. Мне это право дорого. Я не понимаю, почему нет графы «против всех», почему не регистрируют Партию народной свободы, которой я симпатизирую. Раньше мне было понятно, что общество переходит с одних рельсов на другие, что, конечно, будет очень трудно, что Россия — страшная страна, где всегда воровали и, наверное, будут… Но для меня было важно, что я-то не ворую, что я и мои ровесники всего добьёмся собственным трудом. И будем человеками, а не рабами. А сегодня я не могу понять, ну как может жить общество без свободной информации? Я любила то телевидение, потому что понимала, что меня не обманывают. В этом смысле общество безмерно обеднело.
Удивительная была вещь в ельцинскую эпоху — Комиссия по помилованию при президенте России, куда входили именно те люди, которые имели на это моральное, духовное, нравственное право: Лев Разгон, Булат Окуджава, Анатолий Приставкин… Вот это настоящие, нелживые люди культуры.
Недавняя история с фондом «Федерация» меня просто поразила. Хотелось спросить: зачем вы это делаете, это же дети, причём больные дети?! Насколько я знаю, руководитель фонда опять проводит какой-то концерт. Хотя после такого он должен стать персоной нон грата. И если власти на это наплевать, то это неправильно.
Или станица Кущевская. У людей не шевелятся на голове волосы?
— У людей шевелятся, у власти, видимо, нет.
— Я запомнила историю женщины-ректора с трогательной фамилией Крошка. Она была единственным препятствием на пути бандитов. И в результате на неё завели уголовное дело, забрали в СИЗО, где она пережила два инсульта и сошла с ума. Да как же так? Чем это отличается от времени Сталина, когда жизнь человека никому не была дорога? Мы пережили такой тяжёлый век, и нам опять на всех наплевать? На всех крошек. А это мы. Я, например, крошка. И как в этом случае говорить о величии России? Величие — это же и самоочищение.
— Недавно Владимир Путин создал Народный фронт, в который, иногда не спрашивая, записывают различные организации. Часть интеллигенции пишет письма протеста. По-вашему, каково место человека культуры сегодня?
— Я понимаю, когда человек культуры вступает в ту или иную партию. У каждого своя система мотиваций. А Народный фронт — против кого, чего? Какая-то странная лексика. Я вот категорически не хочу ни с кем воевать. Мы не во Франции времён Сопротивления. Нацисты не наступают, Гитлер мёртв.
— Мы попытались взять комментарии у представителей культуры по поводу Народного фронта, ото всех получили отказы. Когда-то Максим Горький спросил: «С кем вы, мастера культуры?» Мастера намёк поняли и стали писать сиропные очерки о перевоспитании на Беломорканале. Многих это не спасло от исправления в ГУЛАГе. Отчего люди культуры натягивают маску незнания?
— Мне кажется, корни всех странностей, которые с нами происходят, находятся там, в 17-м году. Та интеллигенция, которая хотела учредительного собрания, и была настоящей интеллигенцией. Но это всё выкашивалось. И постепенно стала возникать пролетарская интеллигенция — «прослойка между пролетариатом и крестьянством». Потом из этой среды выросла огромная диссидентская культура, и опять всех забрали, затолкали в психушки. У нас постоянно пропагандируется тяга подчиняться деспоту. И когда человека пугают, ген оживает, человек начинает бояться. Далеко не каждый может стать академиком Сахаровым и Еленой Боннэр, способными на гражданский подвиг.
— Высказать своё мнение о Народном фронте — тоже гражданский подвиг?
— Я так не думаю. Мы ещё не дошли до той страшной точки. Зачем же пугаться раньше времени и на всякий случай поступать непорядочно?
— Но студентов отчисляют из вузов, людей увольняют с работы, сажают в тюрьму…
— Это вот она — территория насилия: сделай так, или тебе будет плохо. Двадцатый век (страшнее страшного), получается, двадцать первый ничему не научил. Кажется, всё было: две мировых войны, атомная угроза, революция, сталинские репрессии, и мы опять возвращаемся туда же. Значит, надо начинать сначала.
— Кто это должен начинать?
— Я много езжу, и знаете, что люди вспоминают в поездах? Что дедушка сидел по такой-то статье, потом воевал, и вот на 9-е Мая губернатор подарил автомобиль, а дедушка на следующий день умер. Каждый должен начинать с истории своей семьи. Задаваться вопросами: ты хочешь, чтобы с тобой случилось, как с твоим дедушкой? Что такое свобода, Конституция?
— Но домохозяйку, сидящую у телевизора, кто-то должен к этому толкать. Это вы, люди культуры, должны делать?
— Думаю, да. И вы — средства массовой информации. Что же, нам всем сесть и смотреть «Пусть говорят»?
— В январе на Камчатке произошёл скандал, когда Театр драмы и комедии поставил спектакль по пьесе Шварца «Золушка». Местная власть решила ввести цензуру, попытавшись убрать из спектакля такие фразы, как, например, «Я ничего не понимаю с этим переводом часов: уходишь — темно, приходишь — темно». Вы морально готовы к тому, что вам могут запретить ставить каких-то авторов или подвергать их тексты цензуре?
— Не готова. Для начала примите закон о цензуре и объявите, что она есть. И тогда мы будем думать, как нам с этим быть и заниматься ли нашей профессией. Я бы хотела, чтобы мне достало мужества бороться за строчки.
— А вот ваш коллега режиссёр Никита Михалков недавно обратился с открытым письмом к руководству страны с просьбой создать наблюдательный совет по контролю за СМИ, проще говоря, с просьбой о цензуре…
— Михалков — это отдельная история. Должно быть, он сошёл с ума, и это произошло давно. Как сказал какой-то мудрый человек: художник умер, очень жаль. Для человека, снявшего «Механическое пианино», это мелко.
— Но для человека, снявшего «Предстояние»…
— Это закономерно. Я убеждена: тоталитарное будущее не нужно стране. Любой человек, который к этому стремится, поступает, мягко говоря, опрометчиво.
— Ваша манера репетиций — какая? Актёры рассказывали, что перед «Гамлетом», например, вы заставляете их слушать музыку.
— Я не заставляю, мы так условились. Нужно настраиваться на спектакль, переходить из одного состояния в другое. Они слушают «Оду к радости» для ощущения высоты, ощущения бога. Кроме того, «Ода к радости» имеет отношение к нацизму. Я рассказываю артистам о том, что «Оду к радости», как и Вагнера, не слушают в государстве Израиль по одной простой причине: эту музыку включали в Дахау. И нам для того, чтобы спектакль шёл на том художественном уровне, который мною заложен, это необходимо. Потому что просто так в Шекспира не вскочишь. В каждом спектакле свои технологические приемы.
— Вы вообще лёгкий, жёсткий режиссёр?
— Очень разный. В зависимости от того, чего тебе нужно добиться. Можно обмануть, заставить, придумать, все средства хороши, но должен быть результат.
— Как обманываете?
— Человек, особенно если он юный, после первой радости, что его назначили на роль, может испугаться масштаба задачи: гора-то высоко, я не дойду. Роль Гамлета — это же какая гора! Я Каспарову говорю: «Саш, ты не думай про это. Всех философских смыслов сразу не понять. Будем двигаться от простого к сложному»… А как иначе? Саша ведь был и счастлив, и напуган, и ответственность какая… В общем, если веришь в артиста (а я в Сашу очень верила), действуешь разными обходными путями.
Артисты бывают разные. Иногда надо нажать, чтобы добиться эмоционального выхода. Вот, например, я репетировала спектакль «Бег»…
— Говорят, все участники спектакля были совершенно измотаны…
— Да, потому что играть спектакль о войне сложно, нужно быть убедительным. Зритель сидит очень близко, видно всё. И когда мы репетировали, героиня не могла заплакать. Зажаты слёзные железы. А мне нужно, чтобы она заплакала, потому что несчастную Серафиму Владимировну изнасиловали в контрразведке. И я ей говорила: «Ты не Анна Маньяни, ты не будешь никогда актрисой, маленькая девочка, если не научишься плакать». И первый раз она заплакала не от того, что почувствовала роль, а потому что ей было больно от моих слов.
— А если бы не получилось?
— Придумала бы по-другому, перестроила бы сцену, а возможно, и заменила бы актрису. Чтобы быть артистом, надо через очень многое переступить.
— Через что?
— Через не могу, через не хочу, через саможаление… Женщинам в театре вообще очень трудно. Все лучшие пьесы мира написаны для мужчин. В спектаклях — одна-две женских роли. «Макбет», например. Одна роль — леди Макбет, ну и ведьмы. А в театре — труппа. И надо уметь стоять за спиной леди Макбет и смотреть, как репетирует она, чтобы, может быть, потом самой смочь это играть. Это жуткий труд.
— Что сейчас с нашими артистами происходит, когда они репетируют Чуковскую?
— Да, думаю, хороший процесс у нас происходит.
— Тяжёлая ведь повесть.
— Я никого не хочу пугать. Даже о страшном можно рассказать светло. Это история мамы.
— Которая сошла с ума.
— Да, финал грустный. Но до этого много смешного и забавного происходит. Люди ведь живут в коммунальной квартире.
— Как вы думаете, если бы Шекспир пришёл на вашего «Гамлета», что бы сказал?
— Ну, мне кажется, он бы меня понял. Во всяком случае ему, наверное, было бы интересно, любопытно. Думаю, не стал бы меня ругать за то, что я вставляю в его трагедию текст Тома Стоппарда. Может, объяснял бы мне что-нибудь, что я, с его точки зрения, совершенно неправильно поняла.
— У вас есть любимые спектакли в нашей драме?
— «Сиротливый Запад». Замечательная, интересная работа. Мне очень нравится.
Елена Иванова
Газета недели
5 июля 2011