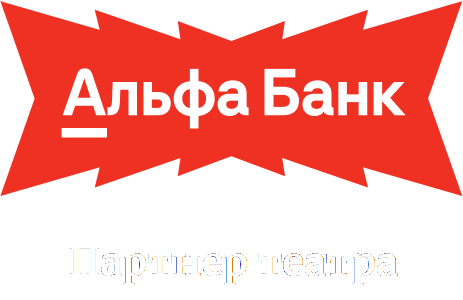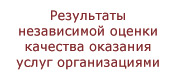Пресса
Юрий Кудинов: Театр должен держать удар времени
Пока теоретики от искусства горячо обсуждают, есть ли сегодня в этом самом искусстве место сложному человеку, один из ярких представителей этой угасающей породы – Юрий Кудинов – серьезно и не суетно трудится в академическом театре драмы имени И.А.Слонова, играет ведущие роли в спектаклях «Кукушкины слезы» Алексея Толстого, «Валентинов день» Ивана Вырыпаева, «Лучшие дни нашей жизни» Уильяма Сарояна, «Пять вечеров» Александра Володина и репетирует первую в своей актерской биографии возрастную роль – Сорина в пьесе Антона Чехова «Чайка», премьера которой намечена на сентябрь.
– Юра, вот есть актеры, которые словно рождаются прямо в театре, на сцене, а есть, которые приходят из жизни. Ты, на мой взгляд, совершенно не похож на артиста. Я не замечала в тебе особенного желания нравиться и иных, часто присущих прирожденным артистам качеств. Каково это – быть артистом, игнорирующим привычную манеру театрального поведения?
– Ты меня обезоружила: я не знал, что это так заметно. Это просто правда, это действительно так, я сам знаю, что это так, сам этого страшусь отчасти, но ничего не могу сделать с тем, что абсолютно точно не вписываюсь и не впишусь ни в какую тусовку ради чего-то, поскольку стараюсь быть честным перед самим собой и говорить «мне нравится», когда что-то нравится, и наоборот. Такая требовательность к себе и определяет мое существование в театре. Потому что жизнь одна и жалко ее тратить на пустяки. Отсюда простой принцип: играть так играть, репетировать так репетировать. Тусоваться и красоваться как-то мне не к лицу и не по летам.
– Подожди-подожди, но ведь театр АТХ был именно «тусовкой», если применять это слово в положительном смысле.
– Вспомни, что в АТХ меня называли самым «неатэховским» артистом, все время говорили о том, что вот я такой молчаливый и загадочный, часто упрекали: почему ты не такой, как тот или этот? Несложно было ответить на подобный вопрос – потому что я другой и у меня есть свой взгляд и свое представление об искусстве. Это не значит, что я категорически противился тому, что мы делали, я очень дорожу этим временем и считаю, что обладаю колоссальным опытом студийного, семейного театра, где все и всё было подчинено общей идее. Мы видели в этом смысл. Но отдельность моя чувствовалась и там.
– Что было самым трудным тогда при переходе в театр драмы?
– Наша Драма живет по совершенно иным законам, они ближе к производственным, даже коммерческим, а в таком режиме крайне сложно сохранить себя живого и роль вынести на сцену живую. Это как после «Пяти вечеров», когда кажется, что худею на несколько килограммов, хотя ничего вроде бы физически не делаю особенного, но желание сохранить каждый раз живыми тему спектакля и мысли, которые дороги, требует огромных усилий. Здесь, в театре, тоже ищу похожих на себя в отношении к работе, в подходе к роли, и не нахожу, хотя в труппе есть артисты, которые гораздо интереснее и профессиональнее, чем я.
– Честно тебе скажу, что как производственник со стажем, не люблю слушать разговоры про противоречия между теми, кто занимается искусством и теми, кто живет в строгом режиме репертуарного театра и планового выпуска спектаклей. Рождение настоящего зависит порою совсем не от установки на высокое творчество. А те, кто зарабатывает на жизнь своим трудом порою вынуждены именно работать, и стыдится тут нечего. Не думаю, что про святое искусство мы уж совсем забываем.
– Ты абсолютно права. Выскажу не новую мысль, которая пришла с возрастом: театр – дело молодых. Театр должен обладать свежестью, наивностью, неким спотыканием, повторением того, что уже было, но по-своему, он хорош, когда искрится, играет красками, бродит, как бражка. Репертуарный театр со своими процессами подчиняет себе эту атмосферу молодости, перебивает эти запахи. Хотя справедливости ради скажу: некоторые нынешние студенты о них даже не подозревают. Производство – не обидное слово, и хорошие мастера – это во всяком деле хорошие мастера. С возрастом ты переходишь в их разряд. Можно поддерживать свою растяжку до старости, но любой двадцатилетний сделает ее легче и красивее. Приходится брать мастерством. Оказывается, что тут тебе не пустое пространство, тут тоже открывается огромное поле для деятельности.
– А что такое возраст, как ты его ощущаешь? Только я не о болячках спрашиваю.
– Вот недавно ощутил возраст: когда мне дали сыграть старичка Сорина в «Чайке». Я его прекрасно ощущаю. Когда прочитал распределение, три дня места себе не находил. В юности смотрел «Чайку» в тюзе – Гриша Цинман играл Треплева, а Краснов – Дорна, и я был влюблен в этого Дорна, думал: какой правильный, какой хороший человек, вот бы такого сыграть. Сейчас перечитал – нет, нет, нет, всё по-другому. Пережив первые три дня, я понял: Сорин такой замечательный, потрясающий, изумительный, с такими зонами молчания, где можно так Чеховым пожить! Я очень доволен. Ну и что, что ему шестьдесят? Ты же не возраст играешь, а судьбу, характер, да и на шестидесятилетнего я уже смахиваю. Как и на сорокалетнего, впрочем, – еще.
– Мне кажется, что Чехов – это вообще твой автор. Во-первых Чехов – мой любимый писатель. Лет в шестнадцать определился, что Горький – не мой и Толстой – тоже не мой, а Чехов – мой. Горький или Толстой – это так тяжело и громко, так не про меня, а про каких-то людей, в которых я себя не вижу. А Чехов столько про меня написал! И я знаю, что такое попасть в Чехова. Такое было дважды в моей жизни. Первый раз, когда в дипломном я играл Лопахина в «Вишневом саде», и был момент такой в репетиции с Владимиром Захаровичем Федосеевым, когда возникло необъяснимое чувство, что все наши души сливаются во что-то общее. Говорили, говорили текст, замолчали внезапно, как будто попали в то самое мгновение, когда струна зазвенела и лопнула. Мы посмотрели тогда друг на друга и испугались того, во что попали, так стало жутко, прервали паузу, заговорили и опять возник театр и игра. Еще я видел Чехова, именно Чехова, здесь, в драме, в последней сцене Треплева и Нины, которую играли Калисанов и Вартаньян. Они просто болтали, забыв про все на свете, а у Треплева столько слез в глазах, и я вижу, что он так ее любит, так любит, и я ее обожаю вместе с ним. Вот это Чехов! И это все про меня. Это и в Володине всё тоже есть, в «Пяти вечерах». Очень тонкие вещи и очень классные. Когда ты оказываешься там.
– Когда я смотрю, как ты играешь Джо в «Лучших днях нашей жизни» Сарояна, то кажется, что ты обладаешь во многом утраченным в наше время ощущением жизни, искусства, театра, героя как некой тайны. Зон молчания в современном мире становится все меньше, мы готовы болтать о чем угодно, выворачивать всё на свете наизнанку, пользоваться любыми выражениями. При этом может показаться, что жизнь открывается тебе, а на самом деле ничего подобного, мы ее просто заговариваем, забалтываем.
– В студенчестве мы были больны фильмом «Парад планет» Вадима Абдрашитова. Я успел ему сказать об этом, когда он был в Саратове и смотрел спектакль АТХ. Так вот там есть артист Олег Борисов, который молчит практически всю картину, а глаз от него оторвать невозможно. Фильм этот не просто про мужскую дружбу, но как раз про тот объем жизненный, про ту тайну, о которой мы говорим. Всё действительно интересное содержит то, чего я не понимаю, что я стремлюсь постичь. Я понял про что нужно играть Джо где-то на десятом спектакле. В этой роли есть бесконечность, весомость, вес, который нужно взять. Без этой тайны искусства нет, как бы красиво это не звучало.
– В «Валентиновом дне» тебе, кажется, очень близок и текст Вырыпаева, и режиссерская манера Виктора Рыжакова.
– Это точно. Меня пленила в работе над этим спектаклем режиссерская задача, которую поставил Витя. Я не знал, что так можно. Он хотел, чтобы мы ничего не играли, чтобы мы просто шли за текстом, и текст сам вел нас. Самое интересное в нем – начальное застолье. В моей жизни было немало спектаклей, которые начинались с обращения в зал, но такой любви, такого отношения к зрительному залу не было никогда. В этом спектакле я ощущаю себя, как рыба в воде. Мы стартуем одновременно все, вместе с двумя народными артистками, но на равных правах, не ощущая ни возраста, ни иной разницы между нами. Мы любим эту работу и живем желанием рассказать свою историю зрительному залу. Такое единение редко бывает. Вите удалось создать особую компашку. История любви, написанная Вырыпаевым, мне родная, – когда человек любит одну, а принадлежит другой. Эта тема, думаю, близка любому мужчине, у женщин, возможно, происходит иначе, не знаю. В этом тексте есть какое-то потрясающее достоинство. Мне нравится нагромождение смыслов, перескакивание из одного времени в другое – это страшно здорово!
– А тебе не кажется, что мы слишком много кричим, слишком яростно заявляем и отстаиваем себя? Искусство должно иметь право говорить тихим голосом.
– Мне поэтому очень дороги «Пять вечеров». Не только поэтому, а еще и поэтому: есть возможность по-иному говорить друг с другом и со зрителем.
– Недавно прочитала интервью Маковецкого, где он привел слова замечательного артиста Владимира Кашпура про то, как надо играть – от существа к существу о существе по существу. Хорошая формула, правда?
– Ух ты, блестяще! Лихо сказано и точно абсолютно, по-моему.
– Увидела как-то случайно твое лицо на обложке православного журнала, листала его, искала текст или хоть подпись к снимку – не нашла, ты оказался безымянным символом православной веры.
– Я был сам обескуражен, обычно в таких случаях поясняют, откуда взялась именно эта физиономия. Ко мне обратились с просьбой из этого журнала, поскольку я являюсь прихожанином храма, а они снимали и предлагали уже несколько лиц на обложку, и владыка их не принимал. Ты не обратила внимание на подпись рядом с фото? Она гласит – кризис духовного роста. Это же прелесть! С такой надписью меня утвердили сразу. Я стал символом кризиса духовного роста. Вот мое настоящее лицо. А ты со мной о высоком...
– Есть слова, определяющие эпоху, – оттепель, застой, перестройка. Скажешь и становится более или менее понятно, о чем речь. Ты не пробовал определить, в какое время мы живем сейчас?
– Мне кажется, это достаточно просто. Наше время лукавое. Миром движут даже не деньги, а вранье. Оно в основе всего. Честных и порядочных людей мало. Когда я рассказываю дочери что-то из детства, она всегда переспрашивает: папа, неужели так было? Да, сетка была натянута, и мужики из соседних переулков приходили к нам играть в волейбол. И после этого шли не квасить, а домой, к детям. И дядя Петя сажал нас по трое мальчишек на мотоцикл свой и катал по всем окрестным дворам. Были сложные житейские истории, но такого открытого хамского лукавства, как сейчас, не было, это точно.
– А чем в такое время, по-твоему, должен заниматься театр?
– У театра судьба достаточно простая: либо он доходит до границы безнравственности, отдавая сцену антрепризе, и сам пытаясь ее принципам соответствовать, идти на поводу у публики, потакая ей всячески и таким образом выживая. Это абсолютно тупиковый путь, дорога в никуда, в смерть для театра, которая бумерангом обернется для тех, кто видел такой театр или работал в нем. Его публика будет вываливаться из телевизора, ночного клуба или караоке-бара, так и не поняв, что такое настоящее сценическое произведение, не познав его законов. Во все времена театр должен заниматься одним и тем же – держать удар этого времени, быть своеобразной планкой для всех, приходящих в него. Чтобы человек шел сюда за тем за чем я шел когда-то в театр – пытаться понять что-то про себя, про свою жизнь и увидеть людей, которые готовы мне в этом помочь. Не политиков и звезд, которые мне втюхивают что-то с понятной целью, а людей. Я много общался со звездами в период работы на радио и всегда повторяю своим друзьям – с вами общаться в тысячу раз лучше и интереснее. Театр должен заботится о новом поколении. Благодаря тому, что есть Аредаков и Галко живет школа мастерства, актерского и человеческого. Мне кажется правильным то, когда студенты встают, приветствуя артистов. Что еще? Театр должен ощущать свою ответственность, особенно в критические лукавые времена. Нужно быть планкой и не бояться этого. Ничего не бояться. Брать и ставить «Чайку».
Ольга Харитонова
Дирижабль №1 (12) 2010 г.